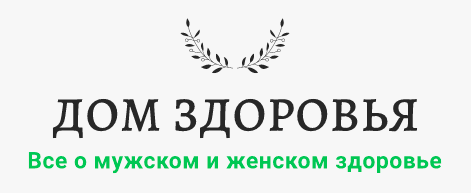Васнецов молочница и жница

Виктор Васнецов был известным мастером бытовой и исторической живописи — его картины приобретали коллекционеры Павел Третьяков и Савва Мамонтов. Полотно Васнецова «Богатыри» стало одним из первых обращений к былинному сюжету в истории русской живописи. Кроме написания картин Васнецов делал иллюстрации к книгам, создавал эскизы архитектурных сооружений и расписывал храмы в разных городах России.
Семинарист в Академии художеств
Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в Вятской губернии (сегодня — Кировская область) в семье священника. Родители старались дать детям разностороннее образование: читали им научные журналы, учили рисованию. Первыми работами Виктора Васнецова были пейзажи, сюжеты сельской жизни. Природа на его картинах во многом списана с вятских видов: извилистые реки, холмы, густые хвойные леса.
В 1858 году Васнецов поступил в духовное училище, затем — в семинарию. Он изучал жития святых, хронографы, летописные своды, притчи. Древнерусская литература зародила в художнике интерес к старине.
«Я всегда был убежден, что в жанровых и исторических картинах, статуях и вообще каком бы то ни было произведении искусства — образа, звука, слова — в сказках, песне, былине, драме и прочем сказывается весь целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим».
В свободное от учёбы время Васнецов рисовал портреты горожан, делал по памяти зарисовки, помогал расписывать Вятский кафедральный собор. В 1867 году он проиллюстрировал книгу этнографа Николая Трапицина о пословицах. Позже художник опубликовал свои рисунки отдельно — в альбоме «Русские пословицы и поговорки в рисунках В.М. Васнецова». В годы учебы живописец создал первые полотна «Жница» и «Молочница».
Виктор Васнецов. Жница. 1867. Частное собрание
Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876. Третьяковская галерея, Москва
Виктор Васнецов. Нищие певцы. 1873. Кировский областной художественный музей им. А.М.Горького, Киров
В 1867 году Виктор Васнецов бросил семинарию и уехал в Петербург. Зимой этого года он занимался живописью в школе своего друга — художника Ивана Крамского, а спустя год поступил в Петербургскую академию художеств.
В академии Васнецов получил две малые серебряные медали за учебные работы, а через два года ему вручили Большую серебряную медаль за картину «Христос и Пилат перед народом». В это время художник рисовал иллюстрации к сказкам и литературно-педагогическим трудам Николая Столпянского — «Народная азбука», «Солдатская азбука». Во время жизни в Петербурге Виктор Васнецов создавал полотна бытового жанра — «Нищие певцы», «С квартиры на квартиру», «Рабочие с тачками». В 1874 году живописец получил бронзовую медаль на Всемирной выставке в Лондоне за картины «Книжная лавка» и «Мальчик с бутылкой вина».
Виктор Васнецов — мастер исторической живописи
После окончания академии художник уехал с друзьями за границу. Там продолжил писать, участвовал в выставках и салонах. В парижской мастерской своего друга Василия Поленова Васнецов набросал эскиз картины «Богатыри» — первого полотна по мотивам русских былин.
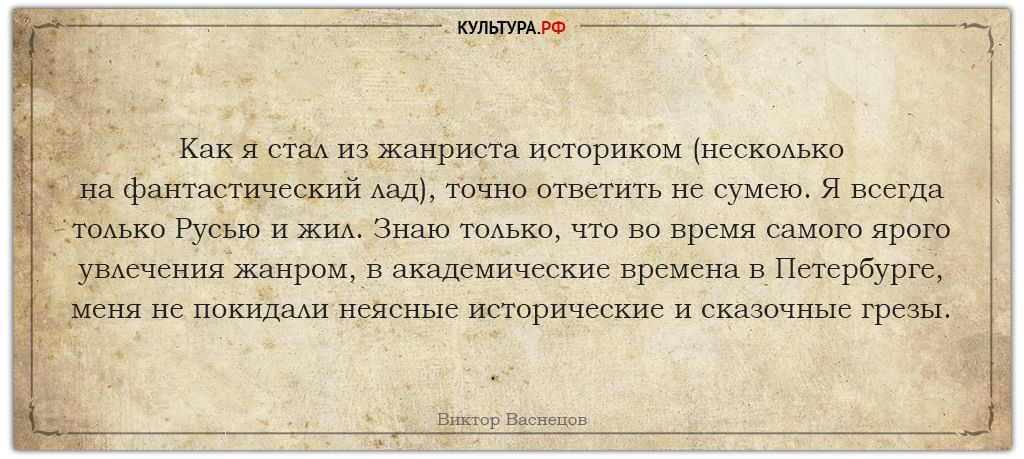
Васнецов прожил за границей около года, в 1877 году вернулся в Москву. Здесь познакомился с коллекционером Павлом Третьяковым, часто бывал на музыкальных вечерах в его семье.
В московский период художник писал картины с сюжетами из истории и сказок Древней Руси. Одно из первых полотен — «После побоища Игоря Святославича с половцами» — экспонировалось на VIII выставке передвижников. Картину купил Павел Третьяков.
Познакомился Васнецов и с меценатом Саввой Мамонтовым, стал участником его Абрамцевского кружка. Мамонтов предложил художнику написать три картины для интерьера управления Донецкой железной дороги. Так появились полотна «Битва скифов со славянами», «Ковер-самолет», «Три царевны подземного царства». Однако члены правления отказались от полотен со сказочными сюжетами. Картины выкупили Савва Мамонтов и его брат.
Виктор Васнецов. Бой скифов со славянами. 1881. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Виктор Васнецов. Ковер-самолёт. 1880. Нижегородский Государственный художественный музей, Нижний Новгород
Виктор Васнецов. Три царевны подземного царства. 1881. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Виктор Васнецов много бывал в Абрамцеве в усадьбе мецената, писал портреты членов его семьи. Окрестности Абрамцева появились и на других картинах Васнецова: березовые рощи и извилистые речки, овраги и пруды, поросшие осокой. Здесь в 1880 году художник написал «Аленушку».
«Аленушка» как будто она давно жила в моей голове, но реально я увидел ее в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девушку, поразившую мое воображение. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в ее глазах… Каким-то особым русским духом веяло от нее».
Храмовая роспись и архитектура
Виктор Васнецов пробовал себя и в архитектуре. Он создал эскизы для построек в усадьбе Мамонтовых, по рисункам Васнецова и Поленова в Абрамцеве построили церковь Спаса Нерукотворного. Также художник нарисовал эскизы собственного дома-мастерской, особняка Ивана Цветкова, главного фасада Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве.
В начале 1885 года профессор Петербургского университета Адриан Прахов, один из учителей Васнецова, предложил ему расписать только что построенный Владимирский собор в Киеве. Васнецов называл роспись храма главной работой своей жизни — он посвятил ей около 11 лет. Художник говорил: «Нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение храма». Во время работы Виктор Васнецов изучал памятники раннего христианства в Италии, фрески Софийского собора в Киеве, использовал знания иконописи и храмового зодчества, полученные в семинарии.
«Иной раз полно, ясно и прочувствованно, вполне излагается на словах то, что происходит в душе, но когда дело дойдет до осуществления того, о чем мечтал так широко, тогда-то до горечи чувствуешь, как слабы твои мечты, личные силы — видишь, что удается выразить образами только десятую долю того, что так ясно и глубоко грезилось».
Всего было создано около 400 эскизов, расписано свыше 2000 квадратных метров. Собор освятили в 1896 году в присутствии императора Николая II и его семьи. После Владимирского собора художник расписывал храмы в Петербурге, Гусь-Хрустальном, Дармштадте, Варшаве.
Виктор Васнецов. Радость праведных о Господе. Преддверие рая. Триптих (левая часть). 1896. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Виктор Васнецов. Радость праведных о Господе. Преддверие рая. Триптих (центральная часть). 1896. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Виктор Васнецов. Радость праведных о Господе. Преддверие рая. Триптих (правая часть). 1896. Государственная Третьяковская галерея, Москва
До конца жизни Виктор Васнецов продолжал писать картины по мотивам сказок. В 1898 году он закончил полотно «Богатыри», над которым работал 25 лет.
«Я работал над «Богатырями», может быть, не всегда с должной напряженностью, но они всегда неотступно были передо мною, к ним всегда влеклось сердце и тянулась рука!»
Виктор Васнецов умер в своей мастерской в 1926 году. Художника похоронили на Введенском кладбище в Лефортово.
Источник
В ПОИСКАХ БОЛЬШОГО СТИЛЯ
Васнецов в своём творчестве последовательно прошёл несколько этапов. Это была вполне логическая эволюция — художник пытался построить большой стиль, органически вырастающий из духа народной жизни.



Васнецова с полным правом можно назвать народным художником, его картины знает каждый, и столь широкая популярность даже делает некоторые из них достоянием масс-культуры, как бы выводя за границы истиной живописи. Вины Васнецова в этом нет — логика развития искусства такова, что многие новаторские, в контексте своего времени, произведения постепенно превращаются в своеобразные клише и тем самым обесцениваются. Но сам этот процесс недвусмысленно указывает на то место, которое они изначально занимали в художественном пространстве.
При всём при том минусы такого отношения к художнику очевидны; его следствием становится превращение живого мастера в некий памятник. Подобная мемориализация закрывает от широкой публики огромные пласты его творчества.
Это, в каком-то смысле, произошло с Васнецовым, прочно ассоциирующимся в нынешнем бытовом сознании с двумя-тремя произведениями («Богатыри», Аленушка» и т.п.). Глубина творческих постижений Васнецова при этом исчезла, его свели к одной из составляющих — да, необыкновенно для него важной, но никоим образом ие исчерпывающей всего его художественного мира.



Между тем этот мир симптоматичен. Васнецов одним из первых «взломал» жёсткие границы станковой живописи, смело вступив в смежные области — в декоративно-прикладное искусство, в иконопись, в архитектуру, в театр. До него такие действия клеймились как измена «призванию», «поприщу», как «разменивание» таланта; после него, в искусстве русского «серебряного века», пытавшегося строить жизнь по законам искусства, стали делом обычным. Но подобные кажущиеся зигзаги не были пустой прихотью художника, актом самовыражения, на которое многие вскоре принялись молиться, — нет, это были поиски «большого» стиля, это была вполне осознанная попытка создания синтетического искусства, основанного на одной, «последней», идее. И её Васнецов, в отличие от многих своих современников, отправившихся в «хождения за три моря», далеко не искал, обратив свои взоры на то, что находилось совсем рядом, на то, из чего он сам вырос, — то есть на народ, на его культуру, на его интимную веру.



Само начало васнецовского пути было как бы предугадано, задано до него и без него. Сын сельского священника, типичный разночинец, молодой Васнецов искренне разделял взгляды разночинной культуры — в живописи таким проводником оказались передвижники. Искусство они мыслили как инструмент переустройства жизни, а потому неустанно «бичевали». Большинство жанровых картин Васнецова — пример такого «бичевания». Хотя уже здесь не всё так просто. В его жанрах нет-нет да проглядывает и любование сценками народной жизни; в них словно звучит вопрос — «а не здесь ли кроется самое главное?» Но ответа на этот вопрос пока не находится.
Трудно сказать, что подвигло Васнецова на ту резкую смену ориентиров, которую мы фиксируем в его творчестве на рубеже 1870—1880-х годов. Возможно, одной-единственной причины и не было. Наверняка сыграл свою роль сам факт происхождения художника. Выросший в крестьянской среде, он с детства воспринял народную культуру, из уст народных сказителей слышал былины и исторические предания, очаровывался, напитывался ими. Уже в юности он задумывался о том, почему столь крепки и неразложимы основы народного духа, выражением которого была его, народа, культура. «Меня поразило, — вспоминал он, — длительное бытование ряда предметов в жизни народа. Как они могли сохраниться на протяжении столетий? Такая приверженность говорит о каких-то твёрдых основах народных пониманий прекрасного».
Вот её, твёрдости, как раз и не хватало современной Васнецову жизни. В России отчетливо пахло революцией, социальная структура общества размывалась на глазах, всё находилось в случайном брожении. Васнецов увидел в возрождении «большого» стиля, который охватил бы абсолютно все стороны жизни, залог того, что, жизнь можно гармонизировать, вдохнув в неё с помощью искусства (вне границ и разделений) идеал — тот идеал, что исповедовали многие поколения русских людей. И поставленную задачу он принялся с неуёмной энергией решать. «В сказках, песне, былине, — утверждал Васнецов, — сказывается весь целый облик народа,внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим». Последнее («через сказку — в будущее») знаменательно. И, если можно так выразиться, концептуально для Васнецова.
Ради справедливости, отметим, что он был в числе первых, но не был одинок. 1860-е годы отмечены небывалым всплеском интереса к отечественному прошлому, к духу народной жизни. Именно в эти и последующие годы вышли из печати капитальные сборники фольклора (П. Киреевского, В. Даля, А. Афанасьева, П. Рыбникова, А. Гильфердинга, С. Максимова и др.) и серьёзные исторические исследования (С. Соловьёва, В. Ключевского, Н. Костомарова и др.). В живописи к историческим сюжетам обратились И. Репин, В. Максимов, В. Суриков. Впрочем, кое-что отличало Васнецова от перечисленных художников. Их взгляд на историю был довольно жесток и реалистичен, Васнецов же поэтизировал старину, он обнаружил в ней чудесную сказку и попытался донести её до зрителя, как бы воплотить в реальности. Это не была «ряженая действительность», написанная красками в соответствии с теми или иными формальными законами, — перенося на холст фольклорные и исторические сюжеты, Васнецов предлагал современникам идеал, о существовании которого они забыли.




В сущности, и его подвижническая работа по росписи Владимирского собора в Киеве замечательно вписывалась в провозглашённую концепцию. Расписывая собор, Васнецов возвращал народу-творцу «большой» стиль, позаимствованный у него же и заключенный в темницу искусства, в залы практически недоступных для простых людей музеев и коллекций. «Нет на Руси, — писал Васнецов Поленову, — для русского художника святее и плодотворнее дела — как украшение храма, это уже поистине и дело народное, и дело высочайшего искусства». После этой работы Васнецова провозгласили «гениальным провозвестником нового направления в религиозной живописи». Увы, самой религиозной живописи оставалось лишь двадцать лет жизни.
«Нерусь» (так, с маленькой буквы, Васнецов называл современную ему Россию) победила «старую Русь», человеком которой он себя считал. Но социальная неудача творчества Васнецова не отменяет его вневременной ценности. И его «проективности». Сделанное Васнецовым громадно и еще долго будет давать о себе знать в отечественной культуре. «Десятки русских выдающихся художников, — верно заметил М. Нестеров, — берут своё начало из национального источника — таланта Виктора Васнецова».
Жанровые картины




Жанровой живописью Васнецов увлекся еще в юности — вспомним, что и поступать в Академию художеств он отправился в 1867 году, выручив 60 рублей за «пущенные в лотерею» картины «Молочница» и «Жница». В Академии жанровая живопись для него стала своеобразной отдушиной – создавая подобные работы, он отдыхал от академических заданий, казавшихся ему «мертвыми». С 1873 по 1879 год Васнецов работал над жанровыми картинами, принёсшими ему известность талантливого жанриста и ставших пропуском в среду передвижников, — отметим среди них такие произведения, как «Нищие-певцы», 1873, «Чаепитие в трактире», 1874, „Книжная лавочка», 1876, «С квартиры на квартиру», 1876, «Военная телеграмма», 1875, «Преферанс», 1879. Надо сказать, что и в знаменитых «фольклорных» картинах Васнецова внимательный зритель заметит элементы жанровой живописи.
Портреты
Васнецов был выдающимся портретистом, хотя жанр портрета нельзя назвать основным в его творчестве. В этом жанре художник никогда не работал на заказ, создавая портреты лишь близких ему людей, родственников или тех, кто заинтересовал его своей «характерностью». В сущности, портреты Васнецова, особенно женские, хорошо укладываются в основную концепцию его творчества – все они были всё тем же поиском идеала национальной красоты. В качестве ярких примеров подобных робот можно привести «Портрет Е. А. Праховой», 1894 и «Портрет Т. В. Васнецовой, дочери художника», 1897.




Настенные росписи
Балее десяти лет жизни (1885-1896) Васнецов отдал росписи Владимирского собора в Киеве, посвященного 900-летию крещения Руси. Живописец называл эту работу своим «путём к свету». Концепция росписи, созданная А. Праховым, основывалась на идее осмысления русского православия ках главного проводника Руси в пространство мировой культуры. Васнецов создал около 400 эскизов и при участии помощников («соавтором» Васнецова был М. Нестеров, для которого киевские труды во многом определили всю его дальнейшую жизнь) покрыл фресками около 2000 кв. метров стен храма. Написанная Васнецовым в апсиде алтаря фигура Богоматери с Младенцем – одна из вершин русской иконописи; в этом образе поиски идеала духовной красоты, предпринятые художником, получили свое завершение.


Поэма семи сказок
К русскому народному эпосу, к русской сказке Васнецов обратился еще в 1880-е годы. Его сказочные произведения — не иллюстрация к устному народному творчеству, а акт поэтического прозревания сердцевины жизни, закрытой от людей пеленой «действительности». Не случайно С. Маковский обнаружил в «сказочных» произведениях Васнецова «связь между русской сказкой и русской верой». Начиная с 1900 года и до конца своей жизни (особенно интенсивно – с 1917 года) художник с увлечением писал так называемую «Поэму семи сказок». Время создания серии говорит само за себя, художник в этот период страдал, наблюдая за тем, что происходило в его родной стране. «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Наверное, при желании в этих работах мастера можно рассмотреть политические намёки, но делать этого не хочется.





Богатырская тема
Эта тема – важнейшая для Васнецова, он не оставлял её всю жизнь. Его и самого, обыгрывая приверженность к «богатырским» образам, называли «истинным богатырём национальной живописи». В своих «богатырских» работах Васнецов наиболее монументален и декоративен, и это многое говорит о пафосе, свойственном картинам этого ряда. Его манера изображения русских витязей была как-то сразу и счастливо найдена и мало менялась на протяжении жизни — это доказывает простое сравнение, например, ранней картины «Бой скифов со славянами», 1881 с поздней картиной «Богатырский скок», 1914. Быть может, в последней больше элементов лубка, но это объясняется временем её создания — в 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну. По сути, все васнецовские «богатыри» — это все то же, по слову Н. Рериха, «искание Руси, не академической, не передвижнической, а настоящей, затерявшейся в далекой старине». Эти искания и определили непреходящую художественную ценность васнецовского творчества.



Архитектура
Архитектура, наряду с дизайном, рано увлекла Васнецова — во многом это было связано с его участием в Абрамцевском художественном кружке, стремившемся к созданию современного синтетического искусства. Там, в Абрамцеве, состоялись архитектурные дебюты художника – по проекту Васнецова были построены «Избушка на курьих ножках», 1883 и Церковь Спаса Нерукотворного, 1881-1882; последняя — в средневековых новгородско-псковских традициях. Это опять таки было не подражание, а творческое усвоение забытого «идеала»; в древней архитектуре Васнецова поражала органическая целостность при очевидном декоративном разнообразии. Позже эскизы Васнецова послужили основой для создания затейливого фасада Третьяковской галереи в Москве. Ещё одно известное архитектурное детище художника – его московский дом.






Историк-поэт
Васнецов синтетичен. Сам он не признавал никаких кардинальных переломов в своём творчестве (о которых много говорила критика), считая его вполне органическим. «Как я стал из жанриста историком (несколько на фантастический лад), — объяснял он В. Стасову, — ответить не сумею. Во время самого ярого увлечения жанром, в академические времена в Петербурге‚ меня не покидали неясные исторические и сказочные грёзы. Противоположения жанра и истории в душе моей не было, а стало быть, и перелома или какой-нибудь переходной борьбы во мне не происходило…» Эта фраза комментирует начало васнецовского пути. Зрелость и расцвет его творчества характеризуются тоже «авторскими» словами, вот они: «Главный тезис моей веры таков: мы тогда только внесём свою лепту в сокровищницу всемирного искусства, когда с возможным для нас совершенством и полнотой изобразим и выразим красоту и смысл наших родных образов».
Биография художника

Работы художника

Витязь на распутье
Картина создана по мотивам былины «Илья Муромец и разбойники». Первый вариант картины появился в 1878 году; Васнецов показал его под названием «Витязь». Этот вариант открывает фольклорную, «богатырскую» серию художника. Но он не удовлетворил его — Васнецову не хватало в нём былинной поэзии, песенности, авторской сопричастности и, по большому счету, содержательной определенности. В 1882 году он написал для С. Мамонтова новую версию картины.

Богатыри
Эта картина Васнецова — по-настоящему народный шедевр. «Богатыри» занимают особое место в творчестве художника. Он работал над полотном почти тридцать лет. Весной 1898 года «Богатыри» были куплены П. Третьяковым и стали одним из последних его приобретений. Картина оказалась смысловым «ядром» первой персональной выставки Васнецова. Художник признавался: «”Богатыри” были моим творческим долгом, обязательством перед родным народом…».

Алёнушка
Васнецов как-то признался Рериху, что «Алёнушка» — его любимейшее произведение. Это не «комментарий» к фольклорной истории, а трепетное вчувствование в её настроение; создание этого настроения с помощью точных пейзажных деталей. «Картина как будто давно жила в моей голове, — рассказывал Васнецов, — но реально я увидел её, когда встретил одну простоволосую девушку. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в её глазах…».

После побоища Игоря Святославича с половцами
Картина создана «по мотивам» «Слова о полку Игореве» и вызвала громкие споры, обозначив расхождения среди передвижников в понимании задач современного изобразительного искусства. Васнецов изобразил не саму битву, а её завершение, но это было обдуманно. Картина ознаменовала поворот Васнецова от камерной жанровой живописи к монументальным историческим и фольклорным полотнам.
Источник